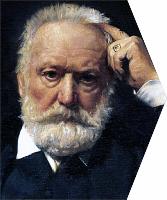
Жавер медленными шагами удалялся с улицы Омм Армэ.
Он в первый раз в своей жизни шел с опущенной головой и в первый раз в жизни заложил руки за спину.
До этого дня Жавер признавал только ту из двух любимых поз Наполеона, которая выражает твердую решимость, то есть руки, скрещенные на груди; та же поза, которая выражает нерешительность, то есть руки, заложенные за спину, была ему неизвестна. Но теперь в нем произошла перемена: вся его фигура, медлительная и угрюмая, выражала душевную тоску.
Он углубился в пустынные улицы, но он шел не наугад, а в определенном направлении. Он шел самым близким путем к Сене, достиг набережной, где росли вязы, дальше направился вдоль реки, миновал Гревскую площадь и остановился на некотором расстоянии от полицейского поста, размещавшегося на площади Шатлэ, рядом с мостом Нотр-Дам. В этом месте, между мостами Нотр-Дам и Менял с одной стороны и между Кожевнической и Цветочной набережными — с другой, Сена образует нечто вроде квадратного озера с очень сильным течением посередине.
Лодочники боятся этой части Сены. Нет ничего опасней этой быстрины, где ярость течения в то время увеличивалась не дававшими ему полного простора сваями мельницы, стоявшей у моста и теперь уничтоженной. Два моста, перекинутые так близко один от другого, увеличивают опасность, вода с шумом стремится под арки. На поверхности воды образуются как бы громадные складки, которые вследствие скопления воды все растут и растут, река точно хочет вырвать устои моста, обхватывая их толстыми водяными канатами. Если в этом месте упадет человек, ему уже не вынырнуть. Здесь тонут самые лучшие пловцы.
Жавер облокотился на парапет, подперев подбородок ладонями рук, и задумался, машинально перебирая концами пальцев свои густые бакенбарды.
В глубине его души произошло что-то новое, переворот, закончившийся катастрофой. Тут есть о чем задуматься.
Жавер страшно страдал.
Уже несколько часов Жавер перестал быть таким, каким он был раньше. Он чувствовал себя в смятении, его ум, всегда такой ясный, в своей слепоте утратил теперь свою прозрачность, этот кристалл заволокло облако. Жавер чувствовал, что в нем раздваивается понятие о долге, и не мог не сознавать этого.
Когда он так неожиданно увидел Жана Вальжана на берегу Сены, он похож был и на волка, догнавшего ускользнувшую было от него добычу, и на собаку, снова нашедшую своего хозяина.
Он видел перед собой два пути, и оба одинаково прямые, и это его ужасало, так как во всю свою жизнь он знал только один прямой путь. И сознание того, что пути эти расходятся, еще более увеличивало его мучения. Каждая из этих дорог заставляла покинуть другую. Которая же из них настоящая?
Его положение было невыносимо.
Быть обязанным жизнью преступнику, признать это и заплатить ему этот долг, поставить себя, наперекор самому себе, на одну доску с беглым каторжником, принять от него услугу и затем самому оказать ему такую же услугу, позволить сказать себе: "Уходи", а затем сказать самому: "Будь свободен", пожертвовать ради личных соображений долгом, уклониться от исполнения этой главной обязанности и чувствовать в этих личных соображениях нечто даже высшее, чем исполнение одного только долга, обмануть доверие общества, чтобы остаться верным своей совести, — все эти противоречия казались абсурдными и угнетали его ум.
Его удивляло, что Жан Вальжан оказал ему милость, и ужасало, что он, Жавер, в свою очередь помиловал Жана Вальжана.
Что с ним такое стало? Он искал прежнего самого себя и не находил.
Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана нельзя, оставить Жана Вальжана на свободе тоже неправильно. В первом случае человек, облеченный доверием правительства, опускался еще ниже преступника, во втором — каторжник поднимался выше закона и попирал его ногой. В обоих случаях позор ложился неизгладимым пятном на Жавера. Какой ни сделать выбор, это все равно падение. Жизнь определяет границы, перешагнуть за которые невозможно, за этими крайними точками уже нет жизни: там бездна. Жавер как раз и стоял на одной из этих точек.
Больше всего его угнетало то, что он вынужден был думать. К этому побуждала его даже сама сила этих противоречивых ощущений. Он не привык думать, и это состояние было для него в высшей степени болезненным.
В процессе мышления всегда есть известная доля внутреннего сопротивления, и ему было досадно сознавать это.
Он всегда считал бесполезным и унизительным думать о чем бы то ни было, не входящем в узкую сферу его обязанностей, но думать, вспоминая истекший день, было для него и вовсе мучением. А между тем после таких потрясений все-таки надо было заглянуть в свою совесть и дать отчет самому себе о самом себе.
При одном воспоминании о том, что он сделал, его кидало в дрожь. Он, Жавер, признал справедливым вопреки всем полицейским правилам, вопреки закону отпустить Жана Вальжана на волю, он нашел, что так будет для него самого лучше, он поставил свои личные интересы выше долга: как назвать такой проступок? Каждый раз, как он вспоминал о содеянном, которому он не мог подыскать даже подходящего названия, он весь вздрагивал. Как ему теперь быть? Оставалось только одно средство: вернуться как можно скорее на улицу Омм Армэ и снова арестовать Жана Вальжана. Очевидно, так именно и следовало поступить, но он не мог. Что-то его удерживало. Что же это такое? Что именно? Неужели на свете существует что-нибудь другое, кроме суда, приведения в исполнение приговоров, полиции и власти? Жавер был сбит с толку.
Каторжник, личность которого является священной! Каторжник, который избежит кары правосудия! И все это благодаря Жаверу! Разве не ужасно, что Жавер, созданный для того, чтобы карать, и Жан Вальжан, созданный для того, чтобы терпеть кару, разве не ужасно, чтобы оба этих человека, всецело подчиненные закону, дошли до того, что оба стали выше закона? Что же это такое, наконец! Совершаются такие чудовищные вещи, и никто не будет наказан! Жан Вальжан, более сильный, чем весь социальный строй, остается на свободе, а он, Жавер, будет продолжать есть хлеб правительства!
Эти мысли постепенно сводили его с ума.
Такое направление мыслей могло бы дать ему повод упрекнуть себя до известной степени и в том, что он сам отвез бунтовщика на улицу Филь-дю-Кальвер, но он об этом даже и не вспоминал. Мелкая провинность затмевается более крупной. Кроме того, бунтовщик был все равно что мертвый, а с точки зрения закона со смертью прекращается всякое преследование.
Воспоминание же о Жане Вальжане подавляло его мозг.
Жан Вальжан вконец сбил его с толку. Все, что он в течение своей жизни считал непреложной истиной, что служило для него опорой, все это теперь было развеяно в прах этим человеком. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Ему припомнились другие факты, но которые он в то время считал глупостью и заблуждением и которые теперь предстали перед ним в другом, истинном свете. Из-за Жана Вальжана выступил Мадлен, обе эти фигуры сливались одна с другой и получалась личность, заслуживающая полного уважения. Жавер чувствовал, что в его душу проникло что-то непостижимое — преклонение перед каторжником. Уважение к каторжнику, мыслимо ли это? Он весь трепетал при одной только мысли об этом и в то же время не мог от нее отделаться. Он тщетно боролся с самим собой, потому что в глубине своей души не мог не признать величия этого отверженного. И это было нестерпимо.
Преступник в роли благодетеля, каторжник оказывается человеком сострадательным, кротким, услужливым, милосердым, человеком, который платит за зло добром, прощает обиды вместо того, чтобы ненавидеть, относится с сожалением вместо того, чтобы мстить, предпочитает лучше погибнуть самому, чем дать погибнуть своему врагу, спасает того, кто его терзал, и, коленопреклоненный, стоит на вершине добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! И Жавер должен был сознаться, что такой человек существует.
Так больше продолжаться не могло.
Само собой разумеется, и мы настаиваем на этом, он не без внутренней борьбы сдался этому отверженному, этому оскверненному ангелу, этому безобразному герою, который в одинаковой степени и возбуждал в нем гнев, и изумлял его. Пока он сидел в карете лицом к лицу с Жаном Вальжаном, закон, точно хищный тигр, двадцать раз принимался рычать у него в душе. Двадцать раз хотел он броситься на Жана Вальжана, схватить его и сожрать, то есть арестовать. Что может быть проще этого на самом деле? Стоило только крикнуть, когда они проезжали мимо любого полицейского поста: "Вот осужденный преступник, укрывающийся от руки правосудия!" Позвать жандармов и сказать им: "Этот человек принадлежит вам!", потом уйти, покинуть осужденного, забыть о всем остальном и ни во что более не вмешиваться. Этот человек осужден на то, чтобы всю свою жизнь быть пленником закона, закон имеет право поступать с ним так, как ему угодно. Что может быть справедливее этого? Жавер говорил себе все это, он искренне хотел поступить именно таким образом, арестовать сидевшего рядом с ним человека, но как тогда, так и теперь, не мог, и каждый раз, как его рука конвульсивно тянулась кверху, чтобы схватить за шиворот Жана Вальжана, какая-то страшная сила заставляла ее опускаться, и он чувствовал, как в глубине души какой-то странный голос кричал ему: "Ты хорошо придумал. Предай своего спасителя, а потом, как Пилат, прикажи принести воды и умой свои когти".
Затем его мысли обратились к нему самому, и тогда рядом с Жаном Вальжаном, ставшим великим, он видел низко упавшего Жавера.
Каторжник был его благодетелем!
Но как это могло случиться, что он позволил этому человеку даровать ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Он должен был воспользоваться этим правом. Позвать к себе на помощь против Жана Вальжана других революционеров и вынудить их расстрелять себя — это было бы гораздо лучше.
Но больше всего его мучило исчезновение уверенности в себе. Он чувствовал себя как бы вырванным с корнем. От свода законов ничего не осталось. В душе его возникали вопросы совести, доселе ему неизвестные. Он чувствовал пробуждающуюся в нем чувствительность, резко отличающуюся от требований закона, которыми до сих пор он только и руководствовался. Его не удовлетворяли уже прежние понятия о честности. Перед ним неожиданно предстал целый ряд новых фактов, которые завладели им. Душе его открылся новый необычайный мир: благодеяние оказанное и возвращенное, самопожертвование, милосердие, снисходительность, насилие, совершенное жалостью над строгостью, беспристрастие, отрицание полного осуждения, снятие клейма порока, возможность появления слез в глазу закона, какое-то новое для него правосудие божеское, идущее вразрез с правосудием человеческим. Он видел во мраке восхождение неизвестного ему странного нравственного солнца; оно и ужасало и ослепляло его, точно сову, которую принуждали смотреть на солнце, как смотрит на него орел.
Он говорил себе, что это так и должно быть, что бывают исключения, что власти могли ошибиться, что закон мог быть неправильно применен в данном конкретном случае, что все не может быть включено в свод законов, что возможны и такие неожиданности, с которыми нельзя не считаться, что добродетель каторжника могла поймать в сети добродетель чиновника, что этот необычайный человек и в самом деле мог быть таким необычайным, что судьба иногда ставит такие западни, и он с отчаянием думал, что ему уже не удастся уберечь себя, чтобы снова как-нибудь не попасться в такую же ловушку.
Он был вынужден признать, что добро существует. Этот каторжник был добр. И он сам — удивительная вещь! — тоже только что совершил доброе дело. Значит, он стал развращаться.
Он считал себя подлецом. Он сам относился к себе с отвращением.
С точки зрения Жавера идеал не требовал ни гуманного отношения к людям, ни благородства, ни возвышенных понятий о своих обязанностях, — все ограничивалось тем, чтобы быть безупречным по службе.
А между тем именно в этом-то отношении он и оказался небезупречным.
Как это могло с ним случиться? Как это все произошло? Он не мог бы этого сказать даже себе самому. Он сжимал в отчаянии голову руками, но, сколько ни старался, не мог придумать никакого объяснения.
Он, само собой разумеется, имел твердое намерение передать Жана Вальжана в руки закона, пленником которого был Жан Вальжан, а он, Жавер, рабом. В то время как он был у него в руках, ему ни на одно мгновение даже и в голову не приходило, что у него была мысль отпустить его. Все это произошло как будто помимо его воли, и он и сам не знал, каким образом рука его разжалась и выпустила Жана Вальжана.
Перед его глазами происходили самые разнообразные загадочные явления. Он задавал себе вопросы, отвечал на них, и эти ответы приводили его в ужас. Он спрашивал себя: что такое сделал этот доведенный до отчаяния каторжник, которого я так ожесточенно преследовал, к которому я потом попал в руки и который мог отомстить мне и даже должен был сделать это, чтобы не только удовлетворить вызванное в нем озлобление, но и ради собственной безопасности, и который вместо этого спас мне жизнь, помиловал меня? Исполнил свой долг? Нет. Это больше чем исполнение долга. А что такое сделал я, когда в свою очередь помиловал его? Тоже исполнил свой долг? Нет. Я сделал больше, чем исполнил долг. Значит, существует что-то большее, чем исполнение долга? Такой вывод его пугал, его весы начинали колебаться, одна чашка валилась в пропасть, а другая поднималась к небу, и Жавер одинаково боялся как той, которая была наверху, так и той, которая была внизу. Не будучи ни в каком случае тем, что называют вольтерьянцем или философом, или неверующим, а питая, наоборот, инстинктивное благоговение к церкви, он тем не менее видел в ней только важнейшую часть социального целого; порядок был его догматом, и это его удовлетворяло; с тех пор как он стал взрослым и поступил на службу, полиция стала для него почти что единственной религией, про него без малейшего намека на насмешку и совершенно серьезно можно было бы сказать, что он исполнял свои обязанности сыщика с полным благоговением. Он признавал только одну власть, своего начальника Жиске, до этого времени он не думал никогда о другой власти — о боге. И вот он вдруг почувствовал присутствие этой главной, верховной власти, и это его смутило.
Это неожиданное открытие поставило его в тупик; он не знал, как ему держать себя с этим верховным начальником; он знал только одно, что подчиненный должен склоняться перед начальством, что он не смеет ни ослушаться, ни порицать, ни критиковать, и что если начальник покажется ему слишком странным, то у подчиненного остается только один выбор — подать в отставку.
Но каким образом подать прошение об отставке богу?
Однако о чем бы он ни думал, его мысли каждый раз возвращались к тому, что его больше всего беспокоило, что в его глазах стояло выше остального — это сознание того, что он совершил ужасное преступление. Он выпустил рецидивиста-преступника, приговоренного к пожизненному заключению. Он освободил каторжника. Он украл у закона принадлежавшего ему человека. Он совершил это. Он перестал понимать самого себя. Он не мог быть уверенным в самом себе. Он даже не мог объяснить себе, чем был вызван такой поступок, у него все перепуталось в голове. До этого момента он жил слепой верой, которая порождает угрюмую честность. Эта вера покинула его. Все, чему он верил, исчезло. Новые понятия об истине, о которых он и слышать не хотел, терзали его ум. С этого момента он должен был стать другим человеком. Он испытывал ужасные страдания совести, которая вдруг прозрела после того, как с ее глаз сняли повязку. Он видел то, чего не хотел видеть. Он чувствовал себя покинутым, вырванным из прошлого, отрешенным, уничтоженным. Представитель власти умер в нем. Его существование потеряло смысл.
Ужасное положение, когда человек доходит до такого состояния!
Быть твердым, как гранит, и вдруг начать сомневаться! Быть статуей кары, вылитой в форме закона, и вдруг почувствовать в груди под бронзовой оболочкой что-то нелепое, непослушное, что-то похожее на сердце! Дойти до того, чтобы платить добром за добро, хотя до этого дня и считал это добро злом! Быть сторожевой собакой и лизать! Быть холодным, как лед, и растаять! Быть тисками и сделаться рукой! Почувствовать вдруг, что пальцы разжимаются и выпускают добычу — это нечто ужасное!
Человек, разивший как пушечное ядро, вдруг потерял цель и беспомощно заметался.
Быть вынужденным признать невозможное: непогрешимое не всегда бывает непогрешимо, потому что тут может быть неправильно истолковано самое понятие, свод законов не исчерпывает всего, само общество далеко от совершенства, проявление власти подвержено колебаниям, незыблемое тоже может давать трещины, судьи тоже люди, закон тоже может ошибаться! Для него это было все равно, что увидать трещину на необъятной голубой лазури небесной тверди.
То, что происходило в Жавере, можно было назвать крушением прямолинейной совести, при котором его выбитая из колеи душа и его стремительно шедшая по прямой дороге честность столкнулись с понятием о боге и разбились вдребезги. Странно, конечно, казалось, что кочегар порядка, машинист правительственной власти, сидевший на слепом железном коне, катившемся по единожды определенному пути, мог быть выбит из седла внезапно блеснувшим лучом света! Странно, конечно, что неизменяемое, прямое, правильное, пассивное, совершенное могло пошатнуться! Странно, что и с локомотивом могло произойти то же самое, что случилось некогда на пути в Дамаск!*
Сознавал ли Жавер, что бог, всегда присутствуя в душе человека и будучи сам истинной совестью, противится ложной совести, что он воспрещает искре гаснуть и приказывает лучу помнить о солнце, что он повелевает душе отличать истину абсолютную от фиктивной, когда первая сталкивается с последней, что любовь к людям не может иссякнуть и что нельзя лишить человека сердца, этого самого удивительного из всех органов нашего тела? Проник ли Жавер в эту тайну? Отдавал ли Жавер себе в этом отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что под давлением этого непостижимого, неоспоримого у него трещит голова.
Это чудо не преобразило его, он оказался, скорее, его жертвой. Сам этот факт вызвал в нем только сильное раздражение. Он испытывал невыносимую тягость существования. Ему казалось, что с этого момента он никогда уже не будет дышать свободно.
Он не привык чувствовать над своей головой неизвестное.
До сих пор все находящееся над ним представлялось его взору чистой, простой, ясной поверхностью; он не видел там ничего неизвестного, ничего непонятного, все было определено, приведено в систему, соединено в одно целое, ясно, точно, строго ограничено, замкнуто, все было предусмотрено; власть для него была все равно, что хорошо спланированная плоскость, на ней нечего было бояться провала, и при виде ее не кружилась голова. Жавер видел неизвестное только внизу. Все неправильное, неожиданное, всякие неурядицы, возможность погибнуть в бездне — это было достоянием низших слоев, мятежников, злодеев, отверженных. Теперь Жавер запрокинул голову, и взор его вдруг был поражен необычайным явлением: вверху тоже оказалась бездна.
Что это такое! Все разрушено до основания! Полнейший разгром. На что же полагаться теперь? Все, в чем он до сих пор был твердо уверен, все рухнуло!
Что-же это такое!.. Слабые стороны общественного устройства обнаружены великодушным преступником! А это что такое? Честный слуга закона вдруг оказался в таком положении, что, как бы он ни поступил, он все равно совершит преступление: отпустить человека значило совершить преступление, и арестовать его было бы точно таким же преступлением! Оказалось, что в предписаниях, которые правительство дает чиновникам, не все просто и ясно! Возложенные на него обязанности могут поставить его в тупик. Что же это такое? Значит, все это случилось на самом деле? Неужели это правда, что бывший разбойник, подавленный тяжестью лежащих на нем преступлений, мог исправиться и в конце концов вполне загладить свою вину? Можно ли этому поверить? Бывали ли когда-нибудь такие случаи, чтобы закон вынужден был отказаться от преследования преступника, потому что сам преступник преобразился?
Да, такой случай возможен, и для Жавера это было не только теорией, он увидел это в жизни! Он не только не мог отрицать этого, но даже сам принимал в этом участие. Это была действительность. Ужасно было то, что такие явления могли принять такие безобразные формы.
Итак, под влиянием все возраставшей растерянности и созданных его воображением ужасов все, что могло бы ослабить и изменить его впечатления, исчезло, и общество, и человечество, и вселенная предстали теперь перед его глазами в простом и непонятном виде. И сам он, Жавер, блюститель порядка, неподкупный слуга закона, верный страж общества, оказался побежденным и поверженным во прах, а каторжник стоит перед ним с ореолом вокруг чела... Вот до какого состояния он дошел, вот какое ужасное видение терзало его душу!
Примириться с этим невозможно. Нет.
Ужасное состояние переживал он, и выйти из него можно было только двумя способами. Первый — смело идти к Жану Вальжану и отправить каторжника в тюрьму. Другой...
Жавер отошел от парапета и, подняв на этот раз голову, твердым шагом направился к полицейскому посту, вход в который обозначался фонарем, горевшим у дверей одного из угловых домов на площади Шатлэ.
Подойдя к дому, он увидел в окно полицейского и вошел. Чины полиции узнают друг друга даже по одному тому, как человек отворяет дверь. Жавер назвал себя, показал полицейскому свою карточку и сел за стол, на котором горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, тут же лежали перо и бумага на случай, если бы понадобилось экстренно составить протокол, а также и для внесения заметок, делаемых во время ночных обходов.
Этот стол, около которого всегда стоит соломенный стул, служит необходимой принадлежностью учреждения, он существует во всех полицейских постах, он неизменно украшен деревянным блюдечком с опилками и картонной коробочкой с красными облатками, это — нижняя ступень официального стиля. На нем зарождается канцелярская литература. Жавер взял перо и лист бумаги и начал писать. Вот что он написал:
НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ЗАМЕТОК ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ
Во-первых, я прошу господина префекта прочесть это.
Во-вторых, арестанты, возвращаясь от следователя, снимают обувь и стоят босыми ногами на каменном полу, пока их обыскивают. Многие, возвращаясь в тюрьму, начинают кашлять. Это вызывает лишние расходы на лечение.
В-третьих, расстановка агентов на заданном расстоянии один от другого дает хорошие результаты, но необходимо устроить так, чтобы в важных случаях по крайней мере два соседних агента не теряли друг друга из виду, в случае если один из агентов почему-либо сделает упущение по службе, другой мог бы видеть это и исправить ошибку.
В-четвертых, на основании особого устава тюрьмы Маделоннет арестантам неизвестно почему воспрещается иметь стул, хотя бы за отдельную плату.
В-пятых, в тюрьме Маделоннет лавочка отделяется всего только двумя брусками, что дает возможность буфетчице подавать руку арестантам.
В-шестых, арестанты, так называемые крикуны, которые вызывают остальных арестантов в приемную, заставляют платить себе по два су с человека за то, чтобы яснее выкрикивать имя вызываемого. Это — вымогательство.
В-седьмых, в ткацкой мастерской с арестантов взыскивают десять су за каждую оборванную нитку — это злоупотребление со стороны подрядчика, так как ткань это не портит.
В-восьмых, очень досадно, что посетители тюрьмы Форс должны проходить через двор мумий, чтобы попасть в приемную Учреждений святой Марии Египетской.
В-девятых, всем известно, что жандармы каждый день во всеуслышание рассказывают на дворе префектуры о том, о чем судьи допрашивали подсудимых. Жандарм должен уметь свято хранить служебную тайну, и поэтому рассказ о том, что он слышал в следственной камере, является серьезным нарушением установленных правил.
В-десятых, госпожа Анри честная женщина, ее лавочка содержится очень чисто, нехорошо только, что женщина торгует у дверей секретного отделения. Эти недостойно такой тюрьмы, как Консьержери.
Жавер совершенно спокойно написал все это своим обычным твердым почерком, не пропуская ни одной запятой и сильно скрипя пером по бумаге. Под последней строкой он подписался:
Жавер
Инспектор 1-го разряда
Полицейский пост на площади Шатлэ
7 июня 1832 года,
около часа ночи
Жавер дождался, пока высохли чернила, сложил исписанный лист в виде письма, запечатал, сделал на обороте надпись: доклад начальству, положил письмо на стол и вышел из комнаты, занимаемой постом. Стеклянная с решеткой дверь захлопнулась за ним.
Он снова по диагонали пересек площадь Шатлэ, вышел на набережную и с автоматической точностью вернулся на то самое место, которое он покинул четверть часа тому назад, облокотился на перила и снова очутился в том же самом положении и даже на той же самой плите, на которой стоял раньше. Можно было подумать, что он не сходил с места.
Было совершенно темно. Это был тот момент могильной тишины, который наступает вслед за полночью. Густая завеса облаков скрыла звезды. Небо зловеще исчезало в туманной мгле. В квартале Ситэ ни в одном доме не было видно огня, не было видно ни одного прохожего, кругом на улицах и на набережной, насколько хватало глаз, не было видно ни души, на темном фоне ночи вырисовывались очертания собора Парижской Богоматери и башен Дворца правосудия. Фонарь бросал красноватый отблеск на верхние камни набережной. Силуэты мостов смутно угадывались в тумане один за другим. Дожди подняли уровень воды в реке.
Место, где стоял, облокотясь, Жавер, как, наверное, помнят, приходилось как раз над той стремниной, над той ужасной спиралью из водоворотов, где волны, то отступая, то набегая одна на другую, вращаются наподобие бесконечного винта.
Жавер наклонил голову и стал смотреть вниз. Там все было темно, и ничего не было видно. Слышалось клокотание пены, но поверхности реки не было видно. Минутами в глубине этого хаоса появлялся вдруг, скользя по воде, какой-то неопределенный отблеск, вода обладает этим свойством получать свет неизвестно откуда даже в самую темную ночь и превращать его в светящуюся змею. Свет исчезал, и снова все покрывалось непроницаемым мраком. Казалось, будто там разверзается бесконечность. Там внизу, под его ногами, была не вода, а бездна. Темная масса набережной, отвесно спускавшейся к реке, сливалась с туманом и казалась как бы стеной, воздвигнутой на краю бесконечности.
Ничего не было видно, но чувствовался леденящий холод воды и неприятный запах мокрых камней. Чем-то суровым веяло от этой бездны. Подъем уровня воды в реке, скорей угадываемый, чем заметный, грозный ропот волн, мрачная громада мостовых арок, воображаемое падение в эту черную бездну, — все это вместе взятое было полно ужаса.
Жавер несколько минут, не шевелясь, стоял на одном месте, устремив взор в темноту, он созерцал невидимое с таким упорством, точно там было что-то привлекавшее его внимание. Вода клокотала. Вдруг он снял шляпу и положил ее на край парапета. Минуту спустя высокая черная фигура, которую какой-нибудь запоздавший прохожий издали мог принять за привидение, появилась на парапете, наклонилась над Сеной, потом выпрямилась, а затем внезапно бросилась в бездну. Послышался глухой всплеск, и только один мрак ночи видел, как судорожно билась эта темная фигура, исчезая под водой.
© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2024
Обратная связь